Руперт Шелдрейк – британский биолог и писатель, известный своей нетрадиционной научной позицией. Получив классическое образование (он изучал биохимию в Кембриджском университете, защитил там докторскую степень и работал научным сотрудником Королевского общества; также стажировался в Гарварде и возглавлял исследования по физиологии растений в Индии), Шелдрейк со временем обратился к изучению аномальных явлений и философским вопросам сознания. Еще в 1981 году он выпустил книгу «Новая наука о жизни», где предложил свою радикальную гипотезу морфического резонанса – существования особых морфогенетических полей, ответственных за формирование структур живой природы. Эта идея сразу встретила сопротивление: журнал Nature опубликовал редакционную статью под заголовком «Книга для сжигания?» в ответ на работу Шелдрейка, что лишь привлекло дополнительное внимание к его взглядам. Несмотря на скепсис коллег, ученый продолжил исследования и написал еще несколько книг на стыке науки и философии. Последняя из них, изданная в 2012 году, получила название «Наука как заблуждение» (оригинальное англ. The Science Delusion, в США издавалась как Science Set Free). Ниже мы рассмотрим основные идеи этой книги, ее содержание, а также альтернативные гипотезы Шелдрейка и оценим, как его идеи воспринимаются сегодня.
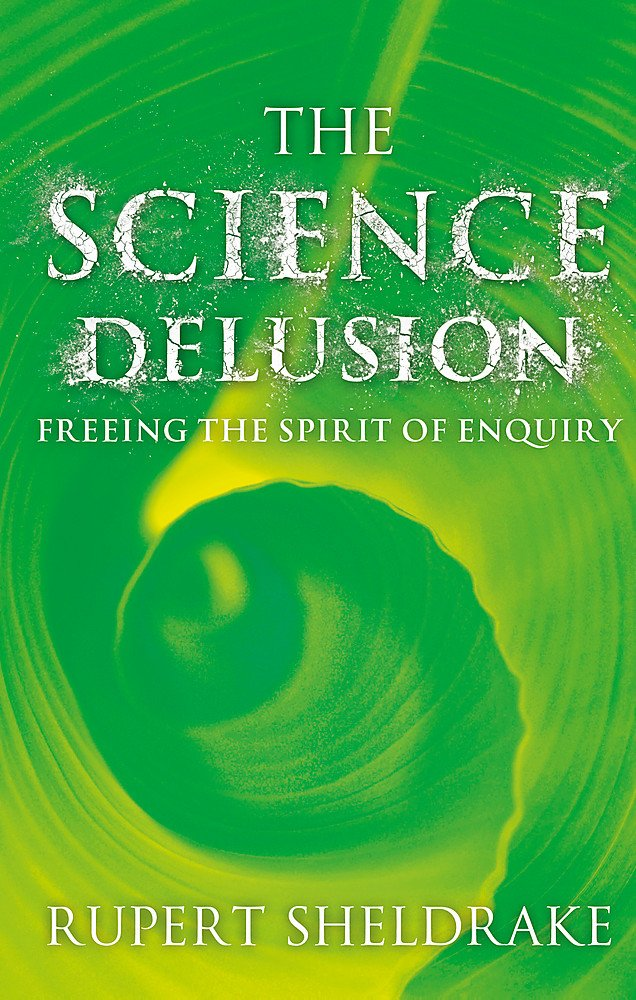
Contents
Основные идеи книги: наука и ее «догмы»
В книге «Наука как заблуждение» Шелдрейк выступает с резкой критикой современного научного мировоззрения. Он утверждает, что наука стала заложницей ряда догм – убеждений, принимаемых на веру и не подвергаемых сомнению, подобно религиозным постулатам. По его словам, главный «научный делюзий» (то есть заблуждение) состоит в уверенности, будто наука уже знает все фундаментальные ответы и остается лишь уточнять детали. Шелдрейк же считает, что такой самонадеянный подход превратил научный метод в своего рода веру, основанную на устаревших предположениях. В частности, автор выделяет десять базовых «догм» современной науки, которые, по его мнению, ограничивают свободный поиск истины:
- Всё сущее по своей сути механично. Живые организмы рассматриваются как сложные автоматы (по выражению Р. Докинза, «громыхающие роботы»), лишенные внутренней цели и автономии.
- Материя не обладает сознанием. Весь материальный мир лишен субъективного опыта; даже человеческое сознание — лишь иллюзия, порожденная работой нейронов мозга.
- Количество материи и энергии в мире постоянно. Предполагается, что оно всегда остается одинаковым (исключение делают только для момента Большого взрыва).
- Природные законы неизменны. Считается, что фундаментальные законы физики и константы установлены раз и навсегда с начала Вселенной и никогда не меняются.
- Эволюция бесцельна. Природа не преследует никакой цели, а эволюционный процесс лишен направления или замысла.
- Наследственность полностью материальна. Вся передача биологических признаков происходит через материальные носители (гены ДНК и др.) без каких-либо нематериальных факторов.
- Память хранится только в мозге. Вся информация и воспоминания закодированы в материальных структурах мозга и уничтожаются со смертью.
- Сознание замкнуто в пределах головы. Наш разум – это исключительно деятельность мозга. Например, когда человек видит дерево, образ дерева находится в его мозгу, а не во внешнем мире.
- “Паранормальные” феномены иллюзорны. Явления вроде телепатии или предчувствия не объяснимы наукой и потому объявляются ненастоящими.
- Только механистическая медицина эффективна. Считается, что традиционная (материалистическая) медицина – единственный действенный способ лечения; альтернативные методы не работают.
Шелдрейк умышленно называет эти положения догмами, проводя параллель с религиозной верой, чтобы подчеркнуть их неоспоримый статус в глазах ортодоксальной науки. На его взгляд, многие ученые приняли данные убеждения «на веру» и выстроили вокруг них целостную картину мира – материализм, где вне материи ничего не существует. Такой взгляд, по мнению Шелдрейка, сковывает научную мысль и тормозит прогресс. Автор призывает относиться к перечисленным тезисам не как к несокрушимым истинам, а как к гипотезам, которые следует критически проверить. Освободив науку от догматизма, убежден Шелдрейк, мы сделаем ее по-настоящему открытой, творческой и готовой к новым открытиям.
Содержание книги: от критики догматов к новым гипотезам
«The Science Delusion» построена таким образом, что каждая из десяти упомянутых догм разбирается подробно в отдельной главе. Шелдрейк формулирует заглавие глав как вопросы – тем самым превращая догмы в проблемы, которые еще предстоит решить, а не готовые ответы. Ниже приведены некоторые центральные темы и аргументы книги:
- Механистичность природы под вопросом. В первой главе Шелдрейк спрашивает: «Является ли природа машиной?» – и обсуждает ограниченность подхода, при котором животные и люди сведены к биороботам. Он указывает, что в реальности живые системы обладают саморегуляцией, спонтанностью и целеполаганием, чего не объяснить простыми механизмами. Автор предлагает смотреть на природу скорее как на организм, полный творческих процессов, а не как на бездушный часовой механизм. Такой подход открывает возможность признать в природе наличие целей и смыслов, отвергаемых строгим материализмом.
- Законы природы или привычки? Одним из самых смелых тезисов книги является идея, что законы природы могут эволюционировать. В главе о постоянстве природных законов Шелдрейк замечает: традиционная наука исходит из того, что все фундаментальные константы и законы были зафиксированы в момент Большого взрыва, словно «космический кодекс» раз и навсегда. Однако в развивающейся вселенной сами законы тоже могут меняться со временем – подобно тому как формируются привычки. Шелдрейк предполагает, что Вселенная обладает некой коллективной памятью, и регулярности, которые мы называем законами, на самом деле складывались постепенно благодаря повторению процессов. Например, когда вещество впервые кристаллизуется в новую форму, в дальнейшем этому способствуют морфические поля, и кристаллы такой формы образуются легче. Иными словами, природа учится на своем опыте. Этот радикальный подход делает эволюцию мира гораздо более творческой, чем принято думать.
- Сознание вне мозга. В нескольких главах Шелдрейк обращается к проблеме сознания и утверждает, что наш ум не ограничен черепной коробкой. Он приводит данные экспериментов, которые сам проводил: например, исследования «шестого чувства» у людей и животных. Шелдрейк известен экспериментами, показывающими, что собаки могут узнавать о возвращении хозяев издалека, люди способны угадывать, кто им звонит, прежде чем взять трубку, а многие ощущали чужой взгляд спиной. Эти феномены трудно объяснить, если придерживаться догмы о замкнутом в мозге сознании. Зато их можно понять, если допустить существование поля сознания, связывающего живых существ. Шелдрейк утверждает, что такие явления, как телепатия, реально наблюдаются – нужно лишь иметь смелость их изучать, а не отрицать априори. Он критикует ситуацию, когда официальная наука просто объявляет экстрасенсорные переживания иллюзией (соответственно догме №9) и поэтому даже не пытается их исследовать. Вместо этого ученый призывает проверять невероятное на практике. По его мнению, уже имеются свидетельства, что ум может простираться вовне, а живые существа связаны друг с другом некими невидимыми каналами. Эта концепция получила название «расширенного разума» (extended mind), и она ставит под сомнение строго индивидуалистический взгляд на психику.
- Материя, жизнь и память. Книга также рассматривает вопросы биологии: действительно ли все наследственные признаки закодированы лишь в ДНК, и только ли мозг хранит память. Шелдрейк, основываясь на своей теории морфических полей, предлагает иную картину. Морфогенетические поля – это гипотетические невидимые структуры, которые организуют развитие и поведение живых систем. Согласно этой гипотезе, каждая форма жизни черпает информацию из коллективного опыта своего вида. Наследственность, таким образом, включает не только гены, но и наследуемую память вида. Например, инстинкты животных (пауки, умеющие плести сети; птицы, знающие путь миграции) – результат накопленного опыта, передающегося посредством морфического резонанса, а не просто набора генов. Память в природе не локализована только в нейронах – она распределена через поля и резонанс между настоящим и прошлым. Такая точка зрения объясняет ряд феноменов (например, почему крысы в разных лабораториях мира быстрее учатся тому, что однажды освоили их сородичи) и бросает вызов редукционистскому пониманию наследственности.
Таким образом, каждая глава The Science Delusion последовательно разбирает конкретный «краеугольный камень» материалистической картины мира и предлагает альтернативный взгляд. Шелдрейк сопровождает рассуждения ссылками на эмпирические данные и результаты экспериментов – своих собственных или известных из литературы – которые ставят под сомнение принятую догму. Например, он указывает на аномальные колебания физических постоянных в различных измерениях, на необъясненные эффекты placebo в медицине, на данные парапсихологии. В конце каждой главы автор обсуждает, как могла бы выглядеть наука, если допустить более широкое понимание обсуждаемого явления. Такой подход, по замыслу Шелдрейка, «освобождает дух исследования» – вместо того чтобы отрицать загадочные факты, наука должна их изучать без предубеждений.
Что предлагает Шелдрейк вместо материализма
Критика догматизма не означает отрицания науки – напротив, Руперт Шелдрейк позиционирует свою книгу как про-научную и призывает вернуть науке подлинный дух любознательности. В качестве альтернативы господствующему научному материализму он предлагает ряд смелых гипотез, расширяющих рамки научного понимания реальности:
- Во-первых, Шелдрейк развивает упомянутую выше концепцию морфогенетических полей. Если отказаться от догмы о неизменности законов природы, то сами законы можно представить как приобретающиеся привычки Вселенной. Морфические поля обеспечивают своего рода память природы. Каждое природное явление случается не в пустоте, а в контексте подобного прошлого опыта. Это означает, что со временем закономерности могут меняться. В традиционной науке такая мысль считается еретической, но Шелдрейк аргументирует ее тем, что это делает картину мира более гибкой и живой. Его гипотеза морфического резонанса предлагает экспериментально проверять, действительно ли, например, кристаллы начинают формироваться легче по всей планете, если где-то уже множество раз сформировалась аналогичная структура – то есть появляется ли глобальный эффект обучения в природе. Если такие эффекты есть, это подтверждало бы наличие морфических полей и бросало вызов материалистическому пониманию причинно-следственных связей.
- Во-вторых, Шелдрейк предлагает расширить понятие сознания. Отказываясь от догмы о том, что сознание продуцируется лишь мозгом, он вводит идею расширенного разума. Согласно этой идее, мозг – это лишь приемник или трансформатор сознания, которое не замкнуто в черепе. Мыслительный процесс может простираться за пределы тела посредством полей сознания, связывающих людей (и животных) между собой. Это радикально отличается от картины человека как «изолированного мыслящего автомата». В поддержку своей гипотезы Шелдрейк указывает на широкий пласт человеческого опыта (телепатическое общение, интуитивное предчувствие событий, эффект наблюдения за спиной), который материализм либо игнорирует, либо списывает на совпадения. Если же признать эти феномены реальными, то придется расширить науку о сознании, включив в нее понятие нематериальных связей. Шелдрейк подчёркивает, что подобные идеи не умаляют величия науки, а наоборот, предлагают новой науке более глубокий взгляд на разум и природу. Он призывает проводить строгие эксперименты даже с «неудобными» темами – например, исследовать способность людей получать информацию вне органов чувств – и утверждает, что полученные им результаты (хотя и спорные) уже свидетельствуют в пользу реальности таких способностей.
- Наконец, Шелдрейк говорит о необходимости более широкой методологии. Он не предлагает заменить одну догму другой, а скорее выступает за плюрализм в науке. Материальный подход отлично работает для одних задач, но не должен исключать другие подходы там, где он бессилен. Например, в медицине помимо чисто механистического воздействия на тело нужно изучать влияние сознания, веры, внушения – ведь эффект плацебо показывает, насколько велики резервы самовосстановления организма вне прямого материального вмешательства. В космологии, вместо утверждения, что сегодняшняя наука объяснила происхождение Вселенной, стоит открыто рассматривать альтернативные гипотезы (включая идею, что Большой взрыв – не уникальное творение чего-то из ничего). Шелдрейк призывает ученых вернуть себе свободу в исследовании: выдвигать смелые предположения, допускать существование сознания вне материи, проверять феномены, от которых ранее отмахивались. Его идеал – наука, которая не превращается в догматичную религию, а остается методом познания, готовым изучать любую сторону реальности без предубеждений.
Таким образом, вместо жёсткого материализма Шелдрейк предлагает постматериальную науку, в которой найдется место и для памяти природы, и для неуловимых аспектов сознания, и для поиска цели в эволюции. Эти идеи находятся на грани науки и философии, расширяя горизонты обсуждения фундаментальных вопросов: что такое жизнь, сознание, вселенная? Автор не утверждает, что уже дал окончательные ответы, но показывает направление, в котором наука могла бы развиваться, избавившись от самоограничений.
Поддержка и актуальность идей Шелдрейка
Вопрос о приемлемости идей Руперта Шелдрейка в научном сообществе остается спорным. Официальная наука по большей части встретила его теории холодно. Многие критики относят концепции Шелдрейка к псевдонауке, указывая на недостаток строгих доказательств его наиболее смелых утверждений. Еще с момента выхода первой книги в 1980-х годах Шелдрейка сопровождала репутация еретика от науки – показательна реакция журнала Nature с призывом предать книгу анафеме. Впоследствии скептики не раз обвиняли Шелдрейка в том, что он подрывает научный метод и поощряет мистицизм. На большинство экспериментов по морфическому резонансу или телепатии основной научный истеблишмент смотрит критически: попытки повторить их зачастую не дают однозначных результатов, и потому доказательная база остается слабой. Как отмечают оппоненты, для пересмотра фундаментальных теорий требуется накопление большого массива надежных данных, а не единичные аномалии. До тех пор его гипотезы будут оставаться на периферии науки. Действительно, на сегодняшний день морфогенетические поля и расширенный разум не входят в учебники и мейнстрим-науку, а фигурируют преимущественно в дискуссиях о пределах научного знания.
Тем не менее, у идей Шелдрейка есть и поддержка – хотя чаще за пределами академического истеблишмента. Его книги стали бестселлерами среди читателей, интересующихся нестандартными взглядами на реальность. Сам факт, что некоторые его работы были переведены на разные языки (в том числе на русский), говорит о широком общественном интересе. Примечательна история с выступлением Шелдрейка на конференции TEDx в 2013 году: он озвучил там тезисы «The Science Delusion», и вскоре организаторы удалили видео, сочтя содержимое слишком противоречивым научным канонам. Однако этот скандал лишь разжег интерес публики – запись речи разошлась по интернету, набрав миллионы просмотров. Шелдрейка приглашали к диалогу философы, духовные лидеры (например, дипак Чопра писал о нем), и нашлись ученые, готовые хотя бы частично признавать разумность его вопросов. В последние годы в научной среде тоже наметился интерес к некогда запретным темам: активно обсуждаются проблемы сознания, возникают теории панпсихизма (наделения элементарных частиц зачатками сознания), изучается плацебо и психосоматика, реабилитируется обсуждение роли наблюдателя в квантовой физике и т.д. Эти тренды созвучны критике Шелдрейка, хотя и не обязательно возникли под ее влиянием.
Для философски настроенных читателей и движений вроде «Деконструкция реальности» идеи Шелдрейка представляют особый интерес. Его работы помогают взглянуть критически на, казалось бы, незыблемые основы научной картины мира. Шелдрейк демонстрирует, что даже наука – главный поставщик объективного знания – строится на ряде допущений, которые можно подвергнуть деконструкции. В этом смысле «Наука как заблуждение» актуальна как манифест открытого разума: книга побуждает не слепо принимать авторитет науки, а понимать ее ограничения и активно участвовать в поиске новой парадигмы. Даже если читатель не согласится со всеми выводами Шелдрейка, знакомство с его аргументацией обогащает понимание философии науки. Эта книга соединяет популярное изложение с глубокой философской проблематикой – от вопросов сознания и свободы воли до обсуждения природы законов и постоянств. Благодаря этому она продолжает вызывать дискуссии и спустя годы после выхода.
Вывод: Руперт Шелдрейк в «The Science Delusion» бросает смелый вызов научному мировоззрению, приглашая взглянуть на реальность шире материалистических шаблонов. Его обзор десяти «научных догм» и предложенные альтернативы подчеркивают, что наука – это развивающийся проект, а не завершенная картина. Книга актуальна для всех, кто интересуется границами познания: она поднимает неудобные вопросы, стимулирует мыслить самостоятельно и, возможно, служит одним из шагов на пути к деконструкции привычной реальности в поисках более емкого ее понимания.
Источник: Руперт Шелдрейк, The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry, 2012. (Перевод фрагментов, цитаты и пересказ по изданию Hodder & Stoughton; материалы Википедии и интервью с автором)